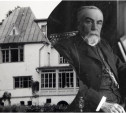Что ж, у зданий, как и у людей, тоже есть свои сроки жизни, как ни грустно это признавать. При этом никак не отнять того, что для многих поколений туляков этот хлебозавод был по-настоящему знаковым сооружением.
Горячий хлеб
В тридцатые годы уже прошлого века в СССР объявили систематическую борьбу за качество хлеба и лучшую работу предприятий хлебопечения. На лукавом языке того времени словосочетание «систематическая борьба» означало, что победить в этой борьбе не предполагалось, надеялись хотя бы сдвинуть ситуацию в лучшую сторону.
Проводимые на предприятиях проверки показывали, что положение и в самом деле аховое. Работа ведется без плана и системы, рабочие подолгу слоняются без дела. К тесту относятся наплевательски: мало того, что оно просто разбрасывается, тестом замазывают печные щели, крышки на посуде.

Корпус хлебозавода на ул. Комсомольской (введен в эксплуатацию в 1932 году) оригинален формами и архитектурой. За фото благодарим Алексея Пушкина.
Рабочие трудятся в тяжелых условиях. Рядом с квашнями свалены дрова, мука, инвентарь. Тут же рабочие раздеваются. Кругом теснота и грязь. Пекарня артели «Прогресс» вообще несколько месяцев работала впотьмах, потому что электротрест не хотел проводить освещение. И все жаловались на низкое качество поставляемой муки, а еще на то, что лошадей недостаточно, они не подкованы, полки в возках поломаны.
Впрочем, не надо спешить обвинять во всем советскую власть.
Проверки хлебопекарных заведений до революции всегда показывали примерно то же – кругом грязь и разгильдяйство.
В Туле в начале тридцатых работало более двадцати мелких пекарен. Хлеб был плохого качества, и его не хватало. В магазинах за ним – очереди. Причем завозили его без графика, так что стоять приходилось по несколько часов. Иногда бывало так: сначала привозили черный хлеб, а потом все ждали еще и белого. Хлеб стал предметом спекуляции.
«Буфетчик Дома Красной армии Быбин отпускает дефицитные товары… себе и своим знакомым. При ревизии у него не оказалось 200 булок, на квартире же было обнаружено 15 кг сахара. Товарищей, производящих ревизию, он обругал. Быбина надо привлечь к судебной ответственности, а горрабкоопту следует больше обращать внимания на подбор работников», – сообщал «Коммунар» 13 мая 1931 г.
Тем временем население Тулы после объявленной индустриализации выросло в несколько раз. Город превращался в большую стройку, а впереди еще было строительство огромного Новотульского металлургического комбината. Народный комиссариат по продовольствию принял решение о строительстве в Туле первого в СССР из восьми заводов-автоматов по производству формового хлеба.
Завод построили быстро и оснастили самым современным на тот момент оборудованием.
В ночь с 2 на 3 ноября 1931 года была произведена пробная выпечка. С 5 ноября две печи начали работать полностью, и завод был пущен в эксплуатацию. Это стало важным событием в жизни Тулы. Почти все мелкие пекарни после этого были закрыты.

К хлебозаводу на ул. Комсомольской проложили пути для грузового трамвая. 40-е годы.
При этом хлеб по магазинам по-прежнему развозили на лошадках. Все старые туляки помнили громыхающие по булыжным мостовым телеги с ящиками, похожими на собачьи будки, в которые укладывали горячие буханки. Запах от этих будок был фантастическим. Привлеченные им, за каждой будкой всегда бежало несколько собак. Иногда они оставались с добычей, если при разгрузке буханка падала на землю. Свора собак в мгновение разрывала свой трофей.
«Бывало, что и наш лохматый Мишка приносил в зубах краюху. Не торопясь, словно растягивая удовольствие, жевал ее у крыльца. Мы завидовали, но отнимать не отнимали. Может, из благородства, а может, просто боялись. Кто сейчас разберет? Но даже посмотреть, как Мишка жевал тот горячий хлеб, было приятно», – вспоминал писатель и журналист Юрий Тепляков. Дом их семьи стоял на улице Пузакова. Мы еще вернемся к его рассказу.
Немецкая бомбежка
Здание хлебозавода оказалось в числе первых объектов, которые подверглись бомбардировке в октябре 1941 года. В него угодила фугасная бомба, прямо в раздевалку. В это время был пересменок, и большинство рабочих находилось именно здесь. Многие на заводе работали семьями, и среди жертв оказались чьи-то родители, братья, сестры...
В этот день погибло около девяноста рабочих. От взрыва бомбы также вышли из строя печь и кочегарка. Таким стал для Тулы последний мирный день – 29 октября. Назавтра начались бои за город.

Поначалу сгоряча хотели восстанавливать завод силами самих рабочих. Однако потом поступило распоряжение всем им перейти в пекарню на ул. Октябрьской. Хлебозавод подготавливали к восстановлению бойцы МПВО и саперы. В декабре уже завезли муку, готовились к пробной выпечке. И вновь случился налет немецкой авиации, опять попало в хлебозавод. Теперь в мучной склад, на месте которого образовалась воронка, в которой мог уместиться трамвай.
После возобновления работы смены теперь стали по двенадцать часов. Работали в основном женщины. Руками месили в корытах тесто, сами кочегарили, таскали дрова, муку и воду, грузили вагонетки. Работали в ватниках, поверх которых надевали белые халаты – экономили дрова на отопление. В день выпекали по 15-20 тонн ржаных двухкилограммовых буханок. К вечеру или ночью подъезжали машины, солдаты молча грузили хлеб и возвращались в свои части.
«Ночью бомбили хлебозавод. Конечно, немцы хотели попасть в оружейный, но угодили в хлебозавод, что был рядом, – рассказывал в своей книге воспоминаний «Заречье» Юрий Тепляков. – Причем угодили не в главное здание, а в хозяйственные постройки, где была и конюшня.
Но зато мой дед и сосед наш дядя Генаша, который как раз и работал возчиком на том заводе, не побоялись новой бомбежки, хоть и знали, что немецкие самолеты нередко заходили на второй круг, и сразу же, как только над складами что-то рвануло, побежали к конюшне.
А где-то через час они привели во двор серую лошадь. То, что она была серая, – это абсолютно точно, потому что та лошадь мне еще долго снилась, да я и сейчас иногда вижу ее грустную морду. Конечно, грусть ее была от боли – передняя нога перебита осколком и копыто буквально болталось на ниточке сухожилия. Она поднимала над землей эту изуродованную ногу и глядела на людей, видимо, ожидая помощи, двигаясь мелкими прыжками, и грива ее мелко, нервно тряслась.
Мы-то, дураки, думали, что лошадь привели лечить, чем-то помочь бедной кобыле, ведь именно на ней дядя Гриша развозил хлеб по Заречью.
Вроде своя – жалко. И совершенно успокоились, когда дед с дядей Генашей осторожно завели ее в глухой закуток между нашими домами и бережно так укрыли какой-то тряпкой, похожей на попону. Скоро стемнело, и всё угомонилось, уснули и мы на своей печке. Едва дождавшись утра, бросились взглянуть на нашу лошадь. Но в закутке было пусто, лишь попона валялась на земле.
– Дед, а где лошадь?
– Убежала, наверное.
– А нога? Она же без ноги.
– Эка невидаль, лошади и на двух бегают.
Что спорить – дед был авторитетом, на том наше любопытство и кончилось, но сомнения все-таки остались, да и убежать далеко она не могла – пошли искать. Облазили все улицы – не нашли».
Голод
Автор, копаясь в своих детских воспоминаниях, рассказывает, что сразу после этого бабушка принесла целый таз парного мяса, который они ели очень долго. И задается вопросом: «А если б знали, откуда мясо взялось? Неужели отказались бы?» И тут же отвечает: «Конечно, нет. Голод делает равными – и глупых и умных, и злых и добрых – всех тех, кто немало пожил на этой земле, и тех, кто по годам еще невинен перед Богом и перед собой.
…Мое поколение, мои сверстники из рабочих семей провинциальных городов, вспоминая свое детство, прежде всего помнят голод. Мы ели все, исключая лишь железо – не могли разжевать. Зато с какой страстью мы вонзали свои молодые зубы в турнепс. Это белая техническая свекла, которая раньше шла на корм скоту. Мы воровали ее с полей, что были на другом берегу Упы. Сладкая, чудная, сочная, она казалась нам медом. Это я уже сейчас сравнил ее с медом, а тогда мы об этой штуке и не слыхали. Мед? А что это? Вот так бы мы ответили».
 Буханка свежего черного хлеба – главное лакомство советского человека.
Буханка свежего черного хлеба – главное лакомство советского человека.
Он много размышляет о том голоде. Вспоминает бабушку, которая, истинно веруя в заповедь Господа «не укради», но доведенная до отчаяния, глядя на полуумирающих от голода внуков, сама стаскивала с телеги мешок муки, который сосед дядя Гена украл с хлебозавода. А потом этот мешок судорожно делила на пять кулей: первый – семье милиционера, который охранял дядю Генашу, чтобы другие не увидели; семье охранника, что выпускал телегу через ворота; дочери Варваре, которая уж совсем еле-еле ноги волочит; самому дяде Гене, и только пятый – себе: внукам, что с раскрытыми ртами сидят у нее на печке.
В августе 1941 года в Туле была введена карточно-распределительная система. Карточки предполагалось отменить сразу после войны, но сделали это только в декабре 1947-го. Карточная система позволяла обеспечивать хотя бы минимальный набор необходимого. Еды не хватало. На хлебе делались сумасшедшие деньги: с хлебозавода шел левак, неучтенка. Точно просчитать, сколько муки ушло в отсев, сколько съели мыши, сколько получили припеку, было невозможно, а каждая буханка стоила огромных денег.
Лишние буханки шли в «свои» магазины. Максимальная зарплата хорошего рабочего в то время – 500-700 рублей, если пользоваться сведениями председателя Госплана СССР Николая Вознесенского. А ведь были еще не очень хорошие рабочие... При этом летом 1942 года коробка спичек на тульском рынке стоила 20 рублей, 50 граммов махорки – 60, буханка хлеба – 75, поллитра водки – 300 рублей.

Снос корпуса хлебозавода на ул. Комсомольской.
В Заречье продуктами спекулировали на Хопре, где было всего-то три крытых деревянных навеса да штук двадцать едко-голубых ларьков. Они прижимались к красным кирпичным стенам хлебозавода и серому бетону завода «Арсенал». Особенно лихо здесь торговали водкой, причем все двадцать четыре часа. Днем водку продавали настоящую, а ночью могли подсунуть и воду. Чтобы купить правильную водку, бутылку переворачивали вверх дном. Если с донышка всплывали пузырьки, значит, там действительно то, что хочешь приобрести. Чем больше пузырьков, тем водка крепче. Если пузырьков нет, значит, в бутылке фуфло, вода. Даже несмотря на то, что пробка, как и полагается, залита сургучом.
«Но если ты купил настоящую бутылку, закуску можно было найти тут же, – рассказывает Юрий Тепляков. – Женщины, обычно стоящие вдоль кирпичной стены хлебозавода, предлагали на белых тряпочках не целые буханки хлеба, а отдельные ломти. Тот, что потоньше, – подешевле. Самой дорогой среди ломтей была горбушка с корочкой. Бутылка на троих, да еще с горбушкой, особенно если ее посыпать солью, – это уже целый пир».
После войны в здании хлебокомбината открыли свой магазинчик. Здесь торговали хлебом прямо из цехов. Кто помнит горячий советский хлеб, тот понимает, что это, конечно, было невероятно вкусно. Необгрызанный по дороге свежий хлеб невозможно было донести до дома даже взрослому человеку.
Тульский хлебокомбинат №1 называли главным кормильцем города, ведь именно здесь выпекали черный хлеб.
Легенда гласит, что рецепт этого хлеба действительно родился именно в Орле в результате стечения обстоятельств. Но в Туле он тоже быстро стал своим. В общем потреблении Тулы орловский по восемнадцать копеек занимал 63 процента от всех хлебных продаж в городе!
И уж конечно, немало вкуснейших рецептов было именно с черным орловским хлебом. Верхнюю, черную корочку просто натирали чесноком или посыпали солью. Черный хлеб ели с растительным или сливочным маслом, получался вкуснейший бутерброд. Поджаривали, мазали майонезом, клали сверху шпротину – лучшее украшение праздничного стола. Тем более что банку шпрот, как правило, и держали в холодильнике к празднику. Да и просто черный хлеб с килечкой – настоящее объедение!
Теперь это все уже история.